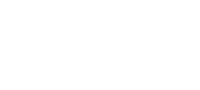Ситуация в мировой экономике и геополитические устремления многих стран все больше напоминают 30-е годы ХХ века. Тогда между двумя войнами, "перезагрузившими" мировой порядок, возникал финансовый кризис, с грохотом рушились империи, а в обычном пивном зале "Бюргербройкеллер" Мюнхена вырастал лидер одной из наиболее людоедских идеологий века. Как не повторить прежние ошибки или хотя бы подготовиться к неизбежному? "Вести" обсудили этот вопрос с политическим аналитиком Русланом Бизяевым.
"Рокировка" мировых лидеров
В начале ХХ века в Европе шло противостояние между двумя глобальными экономиками — Британии и Германии. Лондон начал закрывать свой рынок от товаров извне (причем как немецких, так и американских). Между тем в его доминионах Азиатско-Тихоокеанского региона началась конкуренция со США: британцы там делали ставку на ограничительные меры, а Штаты — на дешевизну и качество, проводя активную экспансию. К тому же в 1913 году появился весьма активный игрок на всей экономической карте мира ХХ века — Федеральная резервная система США. Вашингтон оставался "мягкой силой" вплоть до Второй мировой, ему удалось наладить неплохое сотрудничество даже с Советским Союзом: с 1929 по 1941 год американцы заработали на реализации проектов в СССР порядка $500 млрд в современных ценах: речь о постройке ДнепроГЭС, Сталинградского тракторного и Харьковского паровозостроительного заводов, проектах в нефтехимии, авиации. А заводы ЗиС и ГАЗ наладили выпуск знаменитых "полуторок" ГАЗ-АА, "в девичестве" — "Форд АА" образца 1930 года.
Сегодня доминирующие позиции Британской империи ("павшей" после Второй мировой войны) заняли США, доминирующие в мире и контролирующие ключевые логистические коридоры. А роль "мягкой силы", что ведет экономическую и геополитическую экспансию, играет Китай. Который к тому же имеет огромный военный потенциал: в 2013 году КНР по военным издержкам заняла второе место в мире после США, а в основе ее военной стратегии лежит массовый удар по противнику в случае любой агрессии (в 2020-м численность живой силы достигла 2,03 млн человек, что делает армию Китая первой в мире).
Слабая Европа
В 30-е годы Британия отстраивала в Европе систему сдержек, поддерживая Германию как исторический противовес Франции. Именно это позволило честолюбивому ефрейтору по имени Адольф претендовать на лидерство — и в итоге захватить власть в стране, обозленной на мир по итогам Первой мировой войны. Примерно через полгода после того, как Гитлер пришел к власти, председатель Совета министров Польши Юзеф Пилсудский решил пересмотреть статус "вольного города" Данцига (Гданьска) в пользу Польши — и после жалобы Гитлера в Лигу Наций амбиции Польши были остановлены. После этого состоялся референдум в угольном регионе, Сааре (по итогам Первой мировой регион находился в управлении комиссии Лиги Наций, после плебисцита отошел к Германии).
"Уголь был важен для вермахта, и могла ли Британия заблокировать этот референдум? Разумеется, да. Но не сделала, — говорит Бизяев. — Но обратите внимание на то, что Европа не являлась субъектом мировой политики. Как и сегодня: нынешний лидер ЕС Эммануэль Макрон пытается возродить субъектность, ведя самостоятельную политику, но ему тотчас выстраивают "заборы": одним из них стал жесткий "Брексит", вторым — демарши Польши (пытается блокировать принятие бюджета ЕС-2021. — Авт.) и обострение спора вокруг Кипра (осенью 2020-го свои права на весь остров снова начала предъявлять турецкая сторона)".
ООН превратилась в "Лигу Наций"
Праобразом нынешней ООН стала Лига Наций, созданная в 1919 году. Тогда, по итогам Первой мировой войны, были разрушены четыре империи (Австро-Венгерская, Германская, Российская и Османская), пятая — Британская — получила удар (хоть пока и не смертельный). Возникла потребность в мировом арбитре, который сможет цементировать миропорядок и не допустить территориальные конфликты между многочисленными новосозданными государствами. Тогда разработали понятие о "прямой" и "косвенной" военной агрессии. Однако в середине 30-х Лига Наций перестала быть эффективной: в 1933-м ей не удалось урегулировать конфликт между Боливией и Парагваем, а итало-эфиопская война 1935–1936 годов показала несостоятельность Лиги Наций как органа по поддержанию мира.
Возник вопрос двойных стандартов: СССР был исключен из Лиги Наций за Майнильский инцидент (советская военная провокация в ноябре 1939-го у пограничной деревни Майнила, формальный повод для советско-финской войны) и, собственно, нападение на Финляндию. "Однако за год до этих событий СССР участвовал в разделе Польши, и международное сообщество вполне нормально отреагировало на эту акцию — не было даже претензий, — напоминает Бизяев. — В этот момент "право силы" начало доминировать над "силой права", как и в случае с Косово, и с украинским Крымом: оба прецедента стали для ООН тем же, чем была Польша в 1939 году".
ООН перестала быть эффективным арбитром примерно с начала 90-х, по сути, последним кризисом, в котором она проявила себя, была Первая иракская война. В Югославском конфликте, ряде войн на постсоветском пространстве, конфликтах в Афганистане и Китае (Тибет) ООН уступает тем участникам, которые обладают "правом силы".
То же можно наблюдать на примере последней армяно-азербайджанской войны за контроль над Нагорным Карабахом (сентябрь-ноябрь 2020 года) — ООН на закрытом совещании 29 сентября призвала обе стороны немедленно прекратить боевые столкновения, однако ожесточенные бои это не прекратило. Столь же беззубыми можно считать санкции, введенные против РФ после аннексии Крыма в 2014-м: они были в основном "персональными" (т. е. касались отдельных лиц), а в части запрета экспорта на полуостров товаров и технологий — неэффективными. Между тем РФ, являясь постоянным членом Совбеза ООН, успешно блокирует невыгодные для себя инициативы.
Вместо войны — пандемия Covid-19
В 30-е годы инструментом для разрядки напряжения и "глобальной перезагрузки" стала Вторая мировая война. Она привела к крупнейшей в ХХ веке экономической встряске, падению Британской империи (еще в 1939-м над ней никогда не заходило солнце, а уже к 1949 году она сузилась до объемов острова) и утрате британским фунтом статуса мировой резервной валюты. Она же вызвала новый виток глобализации и установление кейнсианской системы глобальной экономики.
Сегодня мировые экономисты вновь ведут дискуссию о том, каковой должна быть новая экономическая модель мира — нынешняя, неокейнсианская теория, уже "не работает" в полном объеме. Да и сама Потсдамско-Хельсинкская система миропорядка, построенная по итогам Второй мировой войны, перестала устраивать ведущие державы. Однако начинать новую войну в "ядерную" эпоху было бы чересчур неосмотрительно.
"Даже гипотетическая угроза того, что одна из 20 ракет с ядерной боеголовкой на борту упадет на Гавайи, вынудила Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном. И это вовсе не привело к свертыванию ядерной программы в КНДР, зато дало возможность выстроить мостик и снять напряжение", — считает Бизяев. А раз так, то в XXI веке возможны только региональные, но не глобальные конфликты. Перезагрузка же по-прежнему необходима.
"Мировую экономическую систему нужно полностью "уронить", а уже затем выстраивать нечто новое. И вот на последнем Форуме в Давосе говорили о мировой "Повестке-2030", предусматривающей мировой кризис, хоть тогда, год назад, о Covid-19 никто и не слышал", — уточняет эксперт.
Сегодня МВФ дает осторожный прогноз по выходу из коронакризиса лишь к 2023 году. До тех пор будет наблюдаться падение экономик мира в глобальном масштабе и в разрезе целых отраслей (туризм, кинематограф или авиаперевозки). И по итогам кризиса можно будет говорить либо об обновлении проекта "глобализация 2.0", в т. ч. в экономике (ведь сегодня Китай и РФ уже ведут дискуссию о создании государственных криптовалют, в то время как ФРС США всячески отрицает такую возможность, т. к. это будет означать отказ от доллара как резервной валюты), либо об установлении некоей новой модели.
"За чей счет банкет": ЕС или Китай
Итогом кризиса 30-х годов и Второй мировой стало падение Европы в целом и отдельных ее "величин" в частности: та же Британия утратила свою экономическую мощь. В нынешней ситуации велика вероятность повторения истории с "падением" Европы — она оказалась в наиболее слабом положении. Ситуация в демографии, культурном сегменте ЕС оставляет желать лучшего. А его экономическая мощь зиждется на нескольких странах (Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов), которые, как и в начале ХХ века, могут понести все бремя провала.
"И теперь главный вопрос: раз уж перезагрузка миропорядка происходит — за чей счет будет этот банкет?" — задается вопросом эксперт. По мнению Бизяева, альтернативой "закату Европы" может стать падение Китая: именно поэтому между ЕС, США, РФ, Британией и Китаем обострилась "вакцинная" гонка. И речь не столько о вакцинах, сколько о гонке, призванной вывести лидера в экономические "передовики": Китай продвигает проект ВРЭП ("Всестороннее региональное экономическое партнерство"), участниками которого являются сама КНР (вторая по объему экономика мира), Япония (третья), Южная Корея (десятая) и Австралия (четырнадцатая).
"Если Китай замкнет на себе Азиатско-Тихоокеанский регион, то у ЕС не останется шансов остаться тем самым "всемирным Версалем", которым его называли после Второй мировой. Тогда он обветшает и рухнет под тяжестью собственного груза", — считает Бизяев.
Рост "полицейских государств"
После окончания Первой мировой считалось, что во главу угла всех государств должен будет встать Человек как главная ценность. Какое-то время социалистические режимы действительно процветали — в Италии даже Бенито Муссолини изначально был социалистом, а Адольф Гитлер критиковал СССР за построение "неправильного" социализма.
Роль государства выросла после экономического кризиса 30-х, развившегося в Великую депрессию, извратив изначальные социалистические лозунги и устремления. Однако вопросы, актуальные для первой трети ХХ века, остались нерешенными до сих пор.
"Мы снова размышляем о социальной системе, свободном бизнесе. Рынок, согласно неокейнсианской концепции, по-прежнему регулируется, — говорит Бизяев. — Роль государства, а не "человека" снова начала чрезмерно расти: в Париже и Берлине протестующих разгоняют водометами, в Беларуси протесты подавляют пятый месяц кряду. Да и само словосочетание "полицейское государство" больше не является негативным, ведь коронавирус ставит перед обществом новые рамки так же, как экономический кризис делал это в первой трети ХХ века".